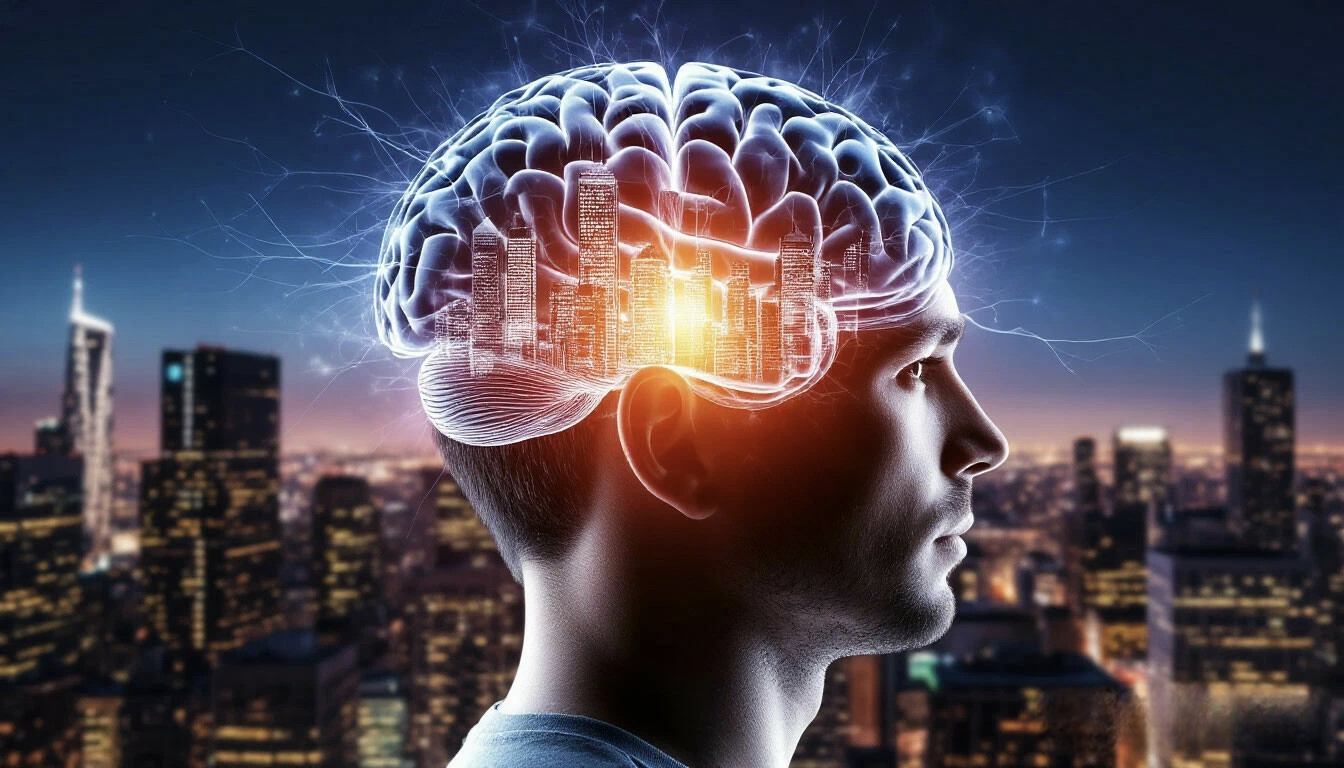
Изображение создано при помощи модели Шедеврум
23 октября 2025
Нейроурбанистика: как городская среда влияет на мозг
И как сделать это воздействие благоприятным
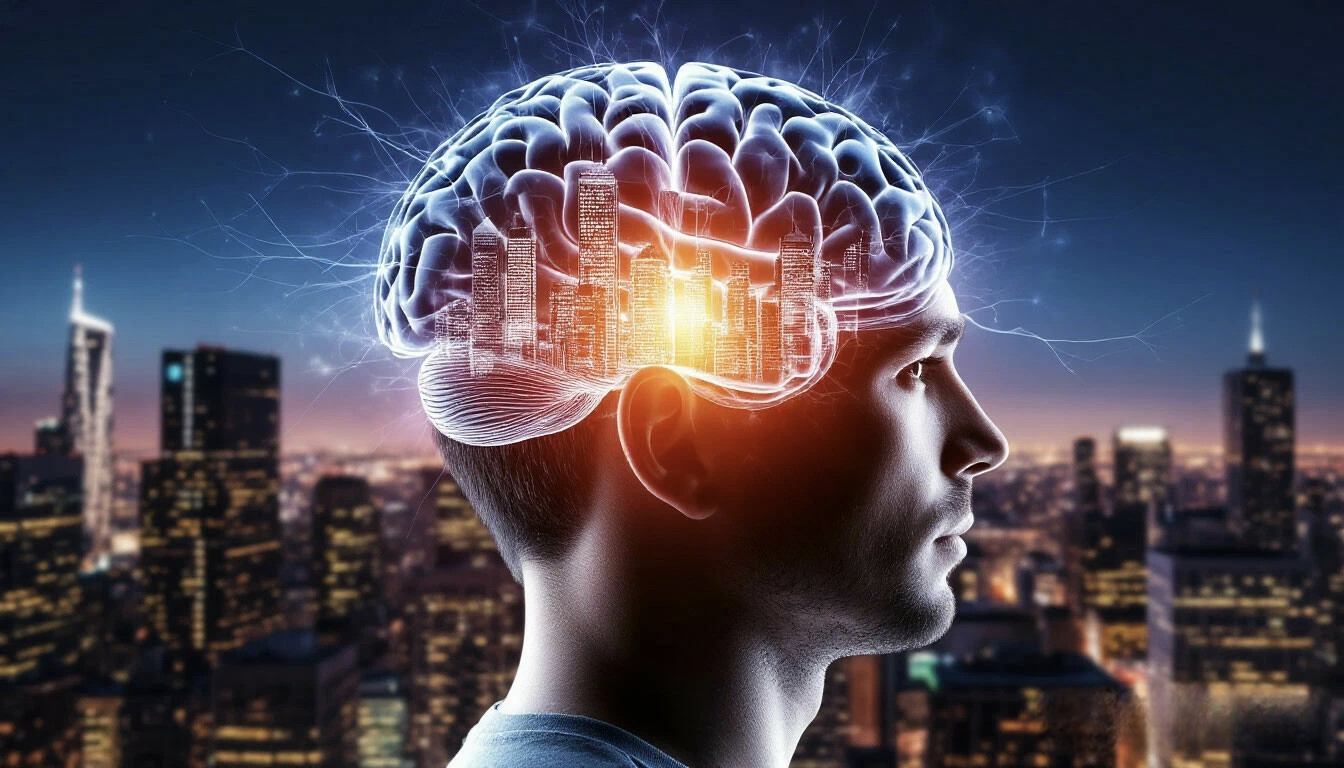
Молодая дисциплина – нейроурбанистика – изучает, как особенности городской среды сказываются на работе мозга, эмоциональном состоянии и поведении человека. Какие научные факты накоплены в этой сфере и какие городские решения особенно полезны, IQ Media рассказала преподаватель курса по нейроурбанистике на факультете городского и регионального развития (ФГРР) ВШЭ, когнитивный нейробиолог Элиана Монахова. Интервью подготовлено в рамках проекта «Найти себя в городе».

Элиана Монахова
Стажер-исследователь Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ, участница проекта «Мультивселенная ученых», реализуемого при поддержке Минобранауки РФ в рамках Десятилетия науки и технологий, автор научно-популярного Телеграм-канала «Нейроны и стрелки»
Фото: Михаил Дмитриев, ВШЭ
Содержание:
– Начнем со сложной природы нейроурбанистики. Это сочетание городского планирования, архитектуры, психологии и нейронаук?
– Да, но сюда еще стоит добавить экологию, этнографию и ландшафтный дизайн. В целом, говоря про направление с громкой приставкой «нейро-», мы подразумеваем какую-то дисциплину, которая развивается точки зрения нейронаук. Это касается и нейроурбанистики.
Как она появилась? Мы столкнулись с огромной проблемой перенаселения городов. По прогнозам ООН, к 2050 году почти 70% жителей планеты будут жить в городах. А в России этот показатель уже более 75%. Такая ситуация ведет к существенной нагрузке на архитектуру, планирование жизни, наше психологическое благополучие. Отсюда у исследователей, а также застройщиков и девелоперов появился запрос на изучение того, как строить города в соответствии с принципами психологического благополучия – так, чтобы людям было хорошо в этих городах и чтобы мы не оказались в ситуации «Вселенной-25» («Мышиного рая»). В эксперименте 1960-х годов, проведенном американским этологом Джоном Кэлхуном, у мышей было все, что нужно для благополучия: достаточное количество пищи, возможность размножаться и взаимодействовать с другими представителями своего вида. При этом, когда популяция мышей достигла критического уровня, они стали отказываться от базовых поведенческих паттернов – например, перестали ухаживать за детенышами, проявляли агрессию, не получали удовольствия от пищи. Иными словами, мыши игнорировали все эти ресурсы – как раз в связи с проблемами перенаселения. Получается, что этим вопросом начали заниматься уже десятилетия назад. А если мы говорим про нейроурбанистику как таковую, то активный этап ее развития пришелся на начало 2000-х, когда состоялись первые эксперименты с функциональной МРТ на эту тему.
В журнале Nature в 2011 году вышла статья, в которой сравнивалась мозговая активность людей, долгое время проживших в крупных городах, и людей в сельской местности. Обе группы участников решали математические задачки под давлением времени, – это классический тест, направленный на вызов реакции стресса. Авторы статьи обнаружили у двух этих групп значимую разницу в активации миндалевидного тела – зоны мозга, отвечающей за эмоциональные реакции, в частности, реакцию стресса. Выяснилось, что у горожан активация миндалевидного тела была гораздо более ярко выражена в сравнении с деревенскими жителями. И это придало импульс развитию исследований в направлении нейроурбанистики. Далее к фМРТ добавились другие технологии: электроэнцефалография (ЭЭГ), айтрекинг (устройство для отслеживания движений глаз) и VR.
– Значит, статья в Nature стала точкой отсчета для нейроурбанистики?
– В целом, да. По крайней мере, после ее публикации о нейроурбанистике заговорили более активно к в практическом, и в фундаментальном плане. Например, в 2017 году в журнале Lancet вышла статья, авторы которой рассуждали о том, что есть такое направление, что нужно уделить ему внимание и что не все понимают масштаб негативных эффектов, который на нас оказывает город. Предположительно, статья в Nature оказалась условной точкой отсчета для научной дискуссии о нейроурбанистике. И стала очевидна междисциплинарность этого направления.
– Уточним суть нейроурбанистики: это изучение влияния городских решений на психологическое благополучие и деятельность мозга?
– Верно. Заострю внимание на важном моменте: нейроурбанистика появилась в силу того, что возник запрос на строительство городов, психологически комфортных для людей. На деле проблема психических расстройств, психологического дискомфорта невероятно остра, особенно в больших городах. Есть, например, статистика Центра городского проектирования и психического здоровья (США) о том, что у людей, живущих в городах, риск развития тревожных расстройств встречается на 20% чаще, чем у людей в селах. А вероятность развития депрессии у первой группы – на 40% выше. Добавлю, что плотная застройка, постоянный шум и загрязнение воздуха снижают качество жизни и создают большую нагрузку на экономику. По некоторым оценкам, потери мировой экономики из-за депрессии и тревожных расстройств составляют около $1 трл в год.
– Согласно исследованиям, горожане изначально живут со стрессом (подчас не замечая его). Но этот стресс повышается дополнительно?
– Да. В работе, опубликованной в Nature, для эксперимента отбирали людей, которые с самого начала жили в крупных городах. Что интересно в истории с более активной зоной миндалевидного тела, ученые предположили, что такие паттерны могут начать формироваться чуть ли не с рождения. Когда мы еще в юном возрасте сталкиваемся с разными техногенными факторами города, это может влиять на нас и психологически, и нейробиологически. Есть предположение, что если взять людей, которые родились и живут в крупных городах, и людей, которые там не живут, то у них будут по-разному работать зоны, ответственные за эмоции (миндалевидное тело, гиппокамп), а также префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за высшие когнитивные функции, в том числе за принятие решений.
– Можно ли здесь говорить об эволюционных механизмах?
– Пока сложно ответить на этот вопрос: дисциплина молодая, и лонгитюдные исследования еще не проводились. Но стабильно у людей, проживающих в мегаполисах, уровень стресса будет выше, чем у людей, живущих в городах поменьше или деревнях. Также можно предположить, что у горожан по сравнению с селянами могут меняться поведенческие паттерны.
– На чем основаны эти гипотезы?
– Возьмем этологию – дисциплину, изучающую поведение животных в их естественных условиях обитания. В 1930-е годы она начала сильно набирать обороты. Два очень важных в истории этологии человека, Конрад Лоренц и Николас Тинберген, предположили, что у животных поведение основано не только на условных и безусловных рефлексах. Что это значит? Если придерживаться концепции, что все поведение животных – это рефлексы, то получается, что животное будет охотиться, только когда видит перед собой добычу, или животное прячется, когда видит перед собой нору. Но эта стратегия не способствует выживанию вида: животное не может сидеть и ждать, когда к нему придет добыча или когда появится возможность спрятаться от хищника. Лоренц и Тинберген выяснили, что выживание биологических видов обусловлено не только рефлексами, но и генетически предопределенными инстинктами, приобретенными формами поведения, в том числе благодаря влиянию среды. И когда мы наблюдаем за поведением диких животных в городе, то видим, что у них появляются абсолютно новые, приобретенные поведенческие паттерны.
Условно говоря, собаки могут переходить дорогу на зеленый свет и обучать этому своих щенков. Или вороны раскалывают орехи, кидая их под колеса автомобилей, что в дикой природе немыслимо.
Это все к тому, что жители города тоже в каком-то смысле приобретают новые поведенческие стратегии, которые помогают в нем существовать с относительным комфортом. Скажем, если мы находимся в крупном городе и сталкиваемся с шумом, загрязнением воздуха и другими проблемами, что мы пытаемся делать? Если мы выбираем квартиру, то, скорее, купим ту, окна которой смотрят на парк, сад, двор или сквер. Если мы ищем место для прогулки, то предпочтем зеленую тихую местность, а не тротуар у магистрали.
– Речь о том, что мы любим биофильные элементы городской среды?
– Да. Или, например, если говорить об этажности зданий, то ученые из Сингапура пытались понять, как она может влиять на наш психологический комфорт. По результатам эксперимента с использованием ЭЭГ, мозговая активность людей значительно различается в зависимости от того, на каком этаже здания они находятся и что видно из окон.
Исследователи с помощью ЭЭГ измеряли альфа-ритмы (во фронтальной области мозга) и бета-ритмы (в височной). Альфа-ритм связан с расслаблением и медитативным состоянием: мы чувствуем себя комфортно, не напряжены. А бета-ритм, как правило, говорит о состоянии концентрации: мы занимаемся выполнением какой-то задачи. Ученые предположили, что, когда участники эксперимента будут находиться на более низких этажах и видеть из окна больше зелени, у них будет наблюдаться выраженное усиление фронтальной альфа-активности. А если участники эксперимента будут находиться выше 20-го этажа, то предполагалось, что альфа-активность у них будет сильно подавлена, но при этом будет ярко выражена бета-активность. А это при обычном взгляде из окна – не самый благоприятный паттерн, означающий, что мы так или иначе напряжены.
Но у исследователей получилась немного иная картина, чем предполагалось.
Преимущества биофильного дизайна подтвердили и нейрофизиологические исследования. У пациентов, находившихся в палатах с природными текстурами и видами на зелень, снижался уровень стресса, увеличивалась мощность альфа-ритмов и улучшались сердечно-сосудистые показатели. Эксперимент с фМРТ выявил, что просмотр изображений с деревьями и природными элементами городской среды помогает восстановлению внимания. Это подтверждается на нейронном уровне (усилением связи между префронтальной и затылочной корой) и поведенческими тестами.
Исследование бельгийских ученых, опубликованное в PLOS Medicine, показало, что дети, которые росли в зеленых районах, имели более высокий IQ (примерно на 2.6 пункта) и более низкий уровень сложного поведения (примерно на 2 пункта), чем дети из менее зеленых районов.
– Сегодня активно обсуждаются факторы, которые поддерживают здоровье мозга, помогают накопить когнитивный резерв. О вашем курсе пишут, что вы учите проектировать города, способствующие когнитивному благополучию. Поговорим о курсе.
– Мы с Анной Шепеленко ведем на бакалаврской программе «Городское планирование» ФГРР курс по нейроурбанистике. Нас вдвоем попросили организовать курс, который был бы посвящен вопросу, возможно ли грамотно интегрировать нейронаучную базу в городские исследования. Мы рассказывали студентам сначала об основах нейронаук (и как они стали частью урбанистики), далее говорили про нейроархитектуру (она включает темы биофильного дизайна, пространства и сенсорного комфорта) и, кроме того, обсуждали, как разные техногенные факторы могут влиять на наше психологическое и нейрофизиологическое благополучие. Мы рассматривали и «теорию подталкивания» (в книге Ричарда Талера и Касса Санстейна «Nudge. Архитектура выбора» есть мысль о том, что планировка не бывает нейтральной, – она всегда к чему-то подталкивает).
Стоит оговориться, что мы с Анной когнитивные нейробиологи, а не урбанисты, и мы исходим из того, что существует на данном этапе в поле эмпирических и фундаментальных научных работ. Семинары строились так: мы давали теоретическую справку, затем рассказывали о современных нейроурбанистических исследованиях, чтобы мотивировать студентов в перспективе осуществлять подобные проекты, а также совершенствовать их понимание того, как строится хороший нейро-эксперимент. По итогам курса учащиеся должны были сформулировать парадигму собственного эксперимента. Они могли отталкиваться от своей ВКР и интегрировать туда историю с «нейро-» или с нуля придумать эксперимент и что-то протестировать – например, как конкретный городской фактор влияет на мозг.
– Поясним, какие параметры влияют на мозг. Видимо, среди них плотность населения, застройка, шум, количество зелени, воздух?
– На самом деле все факторы мы едва ли перечислим. Относительно загрязнения воздуха, например, мы говорим про мелкодисперсные частицы PM2.5, – это объективный параметр, по которому измеряется загрязнение. Данные статистики таковы: более 90% городского населения планеты дышат воздухом, который загрязнен выше нормы. А если брать шум, то около 106 миллионов жителей Европы испытывают на себе воздействие шума, превышающего 55 дБ, – а это серьезный уровень.
Расскажу об исследовании ученых Медицинской школы Гарвардского университета. В их эксперименте были две группы участников: одна жила возле шоссе, где загрязнение воздуха и шум превышали допустимые для здоровья нормы, а другая группа – в менее загазованной и более тихой местности. Выяснилось, что:
– Урбанисты четко разделяют пространство и место, говоря о том, что место – это осмысленное пространство. Насколько освоенность, осмысленность пространства влияет на психологическое благополучие?
– Есть теория «перспективы–убежища» – одна из основ нейроурбанистики. Британский географ Джей Эпплтон разработал ее с целью объяснить предпочтение человеком определенных ландшафтов, пространства. Согласно теории, человека привлекает пространство, которое дает возможность рассматривать окружающую среду в поисках потенциальных возможностей и при этом оставаться невидимым. Это отчасти эволюционная теория. «Перспектива» – способность наблюдать за возможностями и предвидеть опасности. «Убежище» – опция оставаться невидимым, скрытым от опасности. Когда два измерения сосуществуют, возникает ощущение безопасности.
– Как Эпплтон объяснял этот эффект?
– Он писал, что причиной может быть хищная натура наших предков: важно видеть добычу и при этом оставаться скрытым от опасностей. Исследователь предполагал, что наиболее предпочтительным будет баланс открытых и закрытых пространств. Затем появилось направление – нейроархитектура, которая изучает элементы, обеспечивающие и перспективу, и убежище.
– Речь идет о некой комфортной для человека конфигурации объемов?
– В целом, да. Но очевидно, что есть индивидуальные предпочтения. Допустим, мы с помощью искусственного интеллекта генерируем условное пространство, которое кажется нам идеальным с точки зрения сенсорного комфорта. Но мы не можем быть стопроцентно уверены, что такое пространство подойдет всем.
В связи с нейроархитектурой приведу пример Сингапура, где в городскую среду активно интегрируют биофильные паттерны – в рамках программы Skyrise Greenery, которая включает зеленые крыши, вертикальные сады, природные зоны. Кстати, многие нейроурбанистические исследования – либо сингапурские, либо китайские или корейские. В этих странах история с «человейниками» – гораздо более проблемная, чем у нас.
– Есть ли какие-то паттерны в архитектуре, которые стимулируют когнитивные функции – внимание, память, мышление, речь и пр.?
– Есть субнаправление нейроархитектуры – пространственная геометрия. Один из его основателей – датский архитектор и урбанист Ян Гейл (автор книг «Города для людей» и «Жизнь среди зданий…» – ред.) – с помощью своих проектов смог доказать, что геометрия городской среды влияет на социальные взаимодействия и на комфорт. Эту историю подхватили математик Никос Салингарос и физик Ричард Тейлор, которые хотели проверить, насколько фрактальные паттерны в архитектуре могут влиять на наш мозг. Фрактал – фигура, обладающая свойством самоподобия. Мы можем назвать объект самоподобным, если одна или более его частей похожи на единое целое. Почему мы любим фракталы? Возможно потому, что они очень часто встречаются в природе (кроны деревьев, облака, ракушки и пр.). И ряд исследователей, которые занимались фрактальной историей, выбрали здания (например, Саграда Фамилия в Барселоне или Храм Лотоса в Нью-Дели), которые классно отражают эту фрактальную сущность. Добавлю, что есть разная размерность фрактала – условно от 1 до 2, где 1 – это гладкая линия, а 2 – гладкая поверхность. Такая размерность показывает, как количество сфер, необходимых для покрытия объекта, масштабируется в зависимости от размера используемых сфер. И наиболее благоприятная для нашего мозга фрактальная размерность – от 1,3 до 1,5. Она ближе всего к природным фрактальным элементам и поэтому предпочтительна для человеческого восприятия. Вышеназванные здания соответствуют предпочтительной фрактальной размерности, поэтому они во многом и нравятся нам.
И еще одно наблюдение о фрактальных паттернах. В одной из работ с использованием айтрекера ученые пытались понять, действительно ли такие паттерны в архитектуре сильно нас привлекают. Участникам предлагалось смотреть на разные типы зданий: более современные (без фрактальных паттернов) и здания в стиле модерн с природными, фрактальными мотивами. С помощью айтрекера обнаружилось, что здания с фрактальными паттернами привлекали гораздо больше визуального внимания: люди разглядывали их более активно, чем современные здания.
– Обсудим влияние монотонной застройки на психику. Есть данные, что глазу приятнее смотреть на перепады высоты домов, чем на сплошную, одинаковую панельную застройку.
– Это правда. Когда мы смотрим на монотонную застройку, это может снижать нейрогенез – образование новых нейронных связей. Ведь в этом случае мы видим однотипную архитектуру, и это не способствует нашей нейропластичности или нашему совершенствованию с точки зрения новых нейронных связей.
– Поговорим о сенсорном комфорте – его метриках и факторах.
– Изучался, например, вред от акустического загрязнения. Одно из французских исследований показало, что у людей, живших рядом с аэропортом, по сравнению с людьми, жившими далеко от него, был выше уровень кортизола (гормона стресса). Влияние шумового загрязнения от авиации изучалось и на детях – оно было связано с ухудшением запоминания и понимания прочитанных текстов по сравнению с контрольной группой.
В целом факторов сенсорного комфорта довольно много: помимо звуков, это зрительные впечатления, запахи и пр. Их обрабатывают соответственно первичная слуховая кора, зрительная кора, зона Вернике. А в случае с прикосновениями – соматосенсорная кора, с восприятием пространства – вестибулярная система и моторная кора. Во многих работах исследователи пытаются понять, какие пространственные паттерны влияют на нас положительно или негативно. Наверное, основоположником нейропсихологии пространства стал американо-британский нейрофизиолог Джон О’Киф. В 1971 году в эксперименте с крысами он использовал методику вживленных электродов для записи активности нейронов в области гиппокампа. В чем была концепция эксперимента? Животные могли свободно передвигаться по клетке. При этом с помощью электродов исследователь увидел, что некоторые нейроны ведут себя довольно странно. Каждая из групп этих нейронов активировалась только тогда, когда животное находилось в определенном участке клетки. За открытие системы клеток в мозге, которая позволяет ориентироваться в пространстве, О’Киф получил в 2014 году Нобелевскую премию. Так мы начали понимать, что в зависимости от места, где мы находимся, наши нейроны могут по-разному взаимодействовать между собой.
– Что можно сказать про влияние искусственного освещения?
– Оно влияет на нас очень по-разному. У нас есть циркадные ритмы (биологические часы): днем мы бодрствуем, а в темное время суток – спим. На нейромедиаторном уровне днем вырабатывается серотонин, ночью – мелатонин. При этом, естественно, в современном мире без искусственного освещения обходиться невозможно, особенно осенью и зимой, когда рано темнеет. Но тут есть рекомендации, как человеку лучше вести себя вечером, когда он сталкивается с искусственным освещением.
Так, в работе 2014 года было показано, как вечернее использование искусственного освещения негативно влияет на циркадные ритмы. Участники исследования были разделены на две группы. Одна группа в течение некоторого количества дней читала перед сном печатную книгу, и искусственное освещение присутствовало в виде лампы, а вторая группа читала книгу с айпада, когда искусственное освещение было прямо в глаза. Выяснилось, что:
Можно также говорить о том, что у людей, которые более активно сталкиваются с искусственным освещением (например, находятся в очень светлых помещениях ночью), или у людей, которые ночью работают, а днем спят, гораздо выше риск развития психических проблем и проблем со сном (бессонницы, синдрома беспокойных ног, апноэ и пр.).
– Как соучаствующее проектирование (вовлеченность людей в городское развитие) влияет на психологическое благополучие людей?
– Научных работ на эту тему я привести не смогу, но в любом случае считаю, что сплоченность людей и наличие общей мотивации гораздо сильнее стимулируют к тому, чтобы обустраивать свой район. В основе этого эффекта лежит фундаментальная потребность человека быть частью группы. Мы – социальные существа, и нам жизненно важно ощущать связь с другими, свою принадлежность к конкретному сообществу – будь то соседи, жители одного двора или района. И, когда люди понимают, что их действия значимо повлияли на пространство, в котором они живут, положительных эмоций у них будет больше. И, вероятно, это может коррелировать с более низким уровнем тревожности.
– Какие книги по своей теме порекомендуете почитать?
– Эдвард Уилсон. Биофилия. Врожденная тяга к живому как связь человека с другими биологическими видами.
– Ричард Талер, Касс Санстейн. Nudge. Архитектура выбора
– Ян Гейл. Города для людей. Ян Гейл. Жизнь среди зданий. Использование общественных пространств.
– De Groot, J. I. M., Berg, A. E. van den, & Steg, L. Environmental Psychology : An Introduction. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell.
– Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки: в 2 т : учебное пособие / под редакцией Б. Баарса, Н. Гейдж, перевод с английского В. В. Шульговского.
В подписке — дайджест статей и видеолекций, анонсы мероприятий, данные исследований. Обещаем, что будем бережно относиться к вашему времени и присылать материалы раз в месяц.
Спасибо за подписку!
Что-то пошло не так!